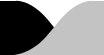- 1024px
- 1280px
Китайский нефтегазовый фактор
В современной экономической и политической ситуации в мире при усилении неопределенности на атлантическом направлении для России особое значение приобретает повышение экономической и политической роли в странах Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Важнейшее условие обеспечения экономической безопасности и усиления позиций страны в качестве глобальной энергетической державы — организация адекватного вхождения российских компаний в нефтегазовый бизнес на потенциально крупнейший в мире — китайский — рынок нефти и газа, установление контроля над частью системы энергообеспечения этой страны. Это потребует принятия ряда крупных хозяйственных решений, требующих комплексного обоснования прежде всего на предмет их соответствия долгосрочным государственным интересам Российской Федерации. О ситуации в нефтяном секторе КНР В настоящее время Китай — второй в мире потребитель нефти, а китайский рынок газа — самый быстрорастущий в мире. В 2007 году потребление нефти в Китае, включая Гонконг, составило свыше 263 млн т, годовой прирост — около 7%; потребление газа достигло почти 70 млрд куб. м, его годовой прирост в континентальном Китае превысил 20%. За последние десять лет свыше 35% мирового нетто-прироста потребления нефти приходилось на Китай. До 1993 года Китай являлся нетто-экспортером нефти, добывая сырья больше существовавшего потребления нефти и нефтепродуктов. Сейчас Китай — крупнейший (после США и Японии) импортер нефти в мире с устойчивой тенденцией увеличения внешних поставок. В 2007 году при росте добычи до 185 млн т использование нефти и нефтепродуктов составило около 373 млн т, а с учетом Гонконга — 387 млн т, соответственно, нетто-импорт только в континентальный Китай составил около 190 млн т. Ожидается, что к 2010 году при стабилизации годовой добычи нефти на уровне 184–185 млн т и начале ее постепенного снижения потребление нефти и нефтепродуктов в Китае составит не менее 456 млн т, соответственно, нетто-импорт превысит 270 млн т. В дальнейшем продолжится тенденция падения добычи, особенно в традиционных районах (Дацин, Шэнли и др.), хотя в стране в целом резкого сокращения производства не произойдет: к 2020 году добыча нефти составит около 172 млн т, а к 2030 году снизится до 160–161 млн т. Продолжится рост потребления нефти и нефтепродуктов, хотя по мере технологического насыщения его темп будет постепенно замедляться: к 2020 году объем спроса превысит 627 млн т, а к 2030 году — 707 млн т. В условиях сокращения добычи и увеличения потребления импортные поставки нефти и нефтепродуктов достигнут к 2020 году 455 млн т, а в 2030 году — не менее 546 млн т. Ситуация в газовой сфере Китая В условиях отсутствия собственных значительных разведанных запасов (менее 2,5 трлн куб. м) газа и развитой инфраструктуры его импорта объем добычи и потребления газа в Китае пока не слишком значителен — 58 млрд куб. м (2007 г.), включая Гонконг. Энергетические потребности (за исключением сегмента моторного топлива, где доминируют нефтепродукты) пока в значительной мере покрываются более дешевым углем, добываемым на территории страны. Доля газа в структуре первичного топливно-энергетического баланса составляет чуть более 3%. Для дальнейшего роста экономики Китай вынужден использовать все имеющиеся возможности обеспечения энергией: в стране реализуется программа строительства атомных станций, развивается ветровая, солнечная и биоэнергетика. Однако в современных экономических и технологических условиях только традиционные источники — нефть, газ и уголь — в состоянии реально покрыть возрастающие энергетические потребности страны. Добыча угля в Китае за последние пять лет возросла более чем в два раза и в 2006 году превысила 2380 млн т, что составляет почти 40% от мировой добычи. Ожидается, что в 2007–2008 гг. добыча угля превысит 2500 млн т, что будет означать достижение ресурсного и технологического предела по этому виду энергии. Кроме того, Китай все более сталкивается с серьезными ограничениями в части увеличения техногенной нагрузки на окружающую среду. Все эти факторы вынуждают руководство КНР стимулировать развитие газовой промышленности и газообеспечения. Развитие газовой промышленности происходит и будет происходить по двум основным направлениям: первое — расширение геологоразведочных работ и увеличение добычи газа в стране; второе — увеличение импорта. Только за последние шесть лет добыча газа в Китае возросла более чем в два раза — с 27,2 млрд куб. м до 58,6 млрд куб. м. В результате интенсификации геологоразведочных работ сделан ряд открытий средних и мелких месторождений в Тариме, Ордосе, Сычуане и др. В 2007 году крупнейшей нефтегазовой компанией Китая — CNPC было открыто газовое месторождение Лунган в Северо-Восточной впадине Сычуаньского бассейна (там же, где Пугуан) с запасами не менее 1 трлн куб. м на глубине свыше 6,5 км. Перспективы открытия новых запасов также будут связаны только со сверхбольшими глубинами; это очень дорогой и тяжелоизвлекаемый газ, экономическая целесообразность добычи которого весьма сомнительна. Согласно планам развития инфраструктуры потребления газа, объем его использования в стране составит в 2010 году более 73 млрд куб. м, в 2020-м — 176 млрд куб. м, в 2030-м — 260 млрд куб. м. Импорт газа должен составить в 2010 году не менее 7 млрд куб. м, в 2020-м — 78 млрд куб. м, в 2030-м — 125 млрд куб. м. В этих условиях Китай вынужден искать крупные источники поставок за рубежом, формировать инфраструктуру импорта газа. С 2005 года из Австралии организован импорт сжиженного природного газа (СПГ) через терминал в Гуандуне. Ведутся переговоры о строительстве ряда новых терминалов СПГ, магистральных газопроводов из России и Центральной Азии. Развивается система внутрикитайских трубопроводов, протяженность которой в 2007 году превысила 30 тыс. км. В ближайшее время начнется строительство магистральных газопроводов «Запад-Восток-2» и «Запад-Юг». Предполагается, что транскитайские магистральные газопроводы на западе страны будут связаны с Туркменистаном и Казахстаном. Планы строительства магистральных газопроводов в Китай из Центральной Азии рассматриваются как аргумент в переговорной позиции с Россией относительно условий поставок газа из Западной и Восточной Сибири. В сложившейся ситуации целесообразно формирование контролируемых российскими компаниями, прежде всего «Газпромом», поставок сетевого и сжиженного газа из России и других регионов мира. «Газпром» как глобальная энергетическая компания имеет возможность вхождения в проекты поставок СПГ в Китай, организуемых международными (МНК) и транснациональными компаниями (ТНК) — BP, RD/Shell, ExxonMobil и др., из различных регионов мира по схеме замещения (SWAP), а также в обмен на их ограниченный допуск к проектам на территории Западной и Восточной Сибири. Создание инфраструктуры и организация крупномасштабных поставок позволят России занять доминирующие позиции на китайском рынке газа, контролируя 70–85% всех импортных поставок. Интересы Китая в российском нефтегазовом бизнесе Россия — крупнейший в мире производитель и экспортер (по совокупной энергетической ценности и совокупной выручке) нефти, нефтепродуктов и газа. Более 80% нефтяного и 100% газового экспорта осуществляется сейчас на атлантическом (западном) направлении. Из перспективных источников сырья к емкому рынку Китая наиболее приближены Западная Сибирь (восток ЯНАО, ХМАО, Томская область), Восточная Сибирь и Дальний Восток. В этих условиях исходя из базовых принципов национальной энергетической доктрины Китай заинтересован, чтобы: — прирост добычи и часть существующих экспортных поставок нефти из Западной Сибири, направляемых в основном в Европу, были переориентированы на китайский рынок; — были организованы прямые поставки газа из Западной Сибири в Китай (через газопровод «Алтай»); — новые поставки нефти и газа из Восточной Сибири и Дальнего Востока были направлены в основном на китайский рынок; — были обеспечены приемлемые цены (ниже уровня рынка) и долгосрочная надежность (гарантии) поставок; — был обеспечен доступ китайских компаний к добывающим активам в России. В качестве важных условий такого проникновения в нефтегазовый сектор России Китай выдвигает заключение долгосрочных соглашений между правительствами КНР и РФ и нефтегазовыми компаниями, формирование прямой инфраструктуры транспорта нефти и газа, в частности — отвод (либо, что более предпочтительно для Китая, основное направление) от нефтепровода Восточная Сибирь — Тихий океан по маршруту Сковородино — Дацин; строительство газопровода «Алтай« с интеграцией в действующую транскитайскую газопроводную систему »Запад-Восток«, »Запад-Восток-2« и проектируемую систему «Запад-Юг». В существующих условиях компании КНР стремятся получить любой доступ к нефтяным и газовым активам в России, что является целью китайской стратегии постепенного проникновения в российские ключевые отрасли и сырьевые регионы с последующим установлением в долгосрочной перспективе экономического контроля и, соответственно, усилением политического влияния на региональном и межгосударственном уровнях. Изучая ситуацию в России (в том числе, учитывая современную позицию правительства РФ по ограничению деятельности иностранных компаний в стратегических отраслях), китайцы пытаются максимально проникнуть в стратегические отрасли на тех условиях, которые действуют и будут действовать в ближайшей и среднесрочной перспективе. Одновременно, используя сейчас любую возможность проникновения в сырьевые секторы, китайские компании ожидают последующего изменения условий и работают в направлении такого изменения. Интересы России в международном нефтегазовом бизнесе Исходя из устойчивых геополитических и экономических интересов страны, региональных процессов в мировой экономике, тенденций в международной системе энергообеспечения Россия заинтересована в: — усилении национального суверенитета над ключевыми отраслями экономики, прежде всего нефтегазовым комплексом, вне зависимости от того, какой (по стране происхождения) иностранный капитал претендует на возможность контроля работы компаний НГК; — диверсификации экспортных поставок за счет переориентации части потоков нефти из Западной Сибири с «перегретого» и в основном стагнирующего европейского рынка на динамичные азиатско-тихоокеанские рынки (Китай, Японию, Корею и др.) при увеличении транзита через свою территорию на атлантическом направлении (Геную, Марсель, Роттердам и др.) казахстанской и туркменской нефти; — получении долгосрочных гарантий по закупкам нефти по высоким ценам (не ниже уровня североевропейского рынка при трубопроводных поставках на НПЗ, а в случае выхода на открытый рынок — к портам Тихого океана — выше североевропейского рынка с учетом «азиатской премии»); — получении полного либо частичного контроля над транзитной и транспортной инфраструктурой на территории стран — новых крупных покупателей российской нефти (Китая, Японии, Кореи и др.); — участии в прибылях от реализации нефти и нефтепродуктов на территории стран АТР (Китая, Японии, Кореи, Индии, Малайзии и др.). Условия реализации российских интересов Исходя из состояния и перспектив развития в нефтяной и газовой промышленности России, устойчивых тенденций в системах энергообеспечения стран Азиатско-Тихоокеанского региона, долгосрочных международных процессов важнейшими условиями реализации российских интересов при взаимодействии со странами АТР (прежде всего Китаем) в нефтяном секторе должны стать: — долгосрочные гарантии закупок по обоснованно высоким ценам через межправительственные и корпоративные соглашения; — контроль над инфраструктурой транспорта нефти из Центральной Азии в Китай, в частности, нефтепроводом «Западный Казахстан-Западный Китай» через увязку вопросов доступа к управлению всей нефтепроводной системой Казахстана на китайском направлении и поставок нефти по маршруту Омск-Павлодар-Атасу-Алашанькоу; — участие в контроле над инфраструктурой поставок нефти из России в Китай, в том числе нефтеналивным терминалом в порту Далянь (Дальний), возможным нефтепроводом Сковородино-Дацин; — полный контроль над заводами северо-востока и запада Китая (а также Казахстана, Туркменистана, Узбекистана), у которых полная либо частичная сырьевая загрузка предполагается за счет поставок из России; частичный контроль над существующими и новыми (в том числе через участие в строительстве) НПЗ в приморских и южных районах Китая; — контроль над распределительными сетями нефтепродуктов, в том числе через покупку действующих и строительство новых АЗС; — участие российских компаний в проектах разведки и добычи углеводородов на территории и континентальном шельфе Китая; — участие российских компаний в акционерном капитале предприятий смежных отраслей (нефтехимия, электроэнергетика и др.). Таким образом, Россия заинтересована в усилении реального экономического контроля над системой энергообеспечения Китая и других стран АТР; российские компании заинтересованы в крупном и динамичном рынке сбыта сырой нефти и нефтепродуктов при обеспечении максимального доступа к объектам инфраструктуры, получении прибыли в сегменте upstream и downstream от участия в добыче и переработке нефти на территории КНР, торговле нефтепродуктами на китайском рынке. Переговорная позиция российских ВИНК Исходя из особой важности энергетического сотрудничества с Китаем для геополитических и экономических интересов России, с учетом совокупности экономико-политических, геостратегических и коммерческих факторов переговорная позиция российских ВИНК должна быть выстроена в следующей принципиальной последовательности. При переговорах с китайскими уполномоченными органами и нефтегазовыми компаниями следует указывать на то, что в настоящее время Россия является крупным поставщиком нефти на китайский рынок. В 2007 году Россия различными видами транспорта поставила в КНР около 20 млн т нефти. Необходимо указать, что принятие официального решения по первоочередному строительству нефтепровода — отвода Сковородино-Дацин зависит от уровня цен и гарантий закупок. Кроме того, со стороны России уже сделан первый шаг по допуску китайских корпораций к разведке и добыче нефти на территории РФ — компания Sinopec владеет 50% одного из крупных нефтедобывающих предприятий — ОАО «Удмуртнефть». В этой связи следует иметь в виду, что передача столь крупного пакета акций китайскому партнеру не представляется оправданной, и в будущем следует исключить подобные сделки. Также важно отметить, что России нужны китайские опыт и технологии по добыче сырья из месторождений, находящихся на падающей стадии производства, а также по извлечению тяжелой нефти и т. п. В случае успешности опыта взаимодействия c Китаем на базе «Удмуртнефти» возможно рассмотрение вопроса частичного допуска китайских компаний (предпочтительно CNPC) к другим добывающим активам в старых районах добычи в европейской части России. Такими активами могли бы стать дочернее предприятие «Роснефти» «Самаранефтегаз», структуры «ЛУКОЙЛа« и «ТНК-ВР» в Волго-Уральской нефтегазоносной провинции, представляющие большое количество разрабатываемых месторождений, в основном выходящих на падающую стадию. Поставки нефти с этих месторождений могли бы быть направлены и на китайский рынок по схеме замещения (SWAP) либо через порты Новороссийск и Туапсе (такие поставки осуществляются на протяжении последних нескольких лет). В обмен на ограниченный допуск китайских компаний к добывающим активам (upstream) в России российские ВИНК — «Газпром», «Роснефть», «Татнефть» и др. — должны получить возможность контроля над НПЗ и сетями АЗС на территории КНР, прежде всего в районах Китая, получающих нефть и нефтепродукты из России (северо-восток, восток). Кроме того, Россия заинтересована в участии в геологоразведочных и добывающих проектах на территории и акватории КНР, а также в частичном контроле над нефтяным терминалом в порту Далянь (Дальний), через который могут быть организованы значительные поставки российской нефти. Полный контроль над портом Далянь также желателен, но его установление будет сталкиваться с жесткими ограничениями со стороны органов государственного управления КНР, в том числе ввиду его значительной роли для экономики всего северо-востока Китая, нахождения там базы ВМС НОАК (Народно-освободительной армии Китая), историческим причинам. При условии реальной экономической эффективности сотрудничества с Китаем как на российской, так и на китайской территории возможно рассмотрение вопроса ограниченного допуска китайских компаний к нестратегическим добывающим активам в традиционных районах добычи на территории России, с которых осуществляются непосредственные поставки на Дальний Восток и в Китай — в Западной Сибири и на суше о. Сахалин, в частности, структурам «Роснефти» — «Пурнефтегазу» и «Сахалинморнефтегазу», подразделению «Газпром нефти» — «Ноябрьскнефтегазу«, структурам «ТНК-ВР» и «ЛУКОЙЛа» в восточной части ХМАО. В этих подразделениях имеется большое количество месторождений, для поддержания и увеличения добычи на которых могли бы быть использованы китайские технологии и опыт. России необходимы получение максимального контроля над портами Далянь, Тяньцзинь, Цинтао, Циньхантао, Ляньюньган, Шанхай; приобретение и строительство НПЗ и распределительных сетей прежде всего на территории северо-восточных, западных, центральных и приморских районов; участие в проектах разведки и разработки во всех традиционных и перспективных в отношении нефте- и газодобычи районах на территории и акватории (Восточно-Китайское, Южно-Китайское, Желтое моря) Китая. В случае строительства нефтепровода из России в Китай АК «Транснефть» должна иметь возможность участия в управлении китайским участком системы. При реализации проектов поставок газа из России «Газпром», наряду с китайскими партнерами, должен участвовать в его транспортировке и дистрибуции на территории Китая. В долгосрочной перспективе в случае обеспечения реального полномасштабного участия российских ВИНК в проектах разведки и разработки месторождений углеводородов на территории и континентальном шельфе КНР, реального контроля над частью системы транспорта нефти, нефтепереработки, нефтехимии и сбыта в этой стране возможно рассмотрение вопроса о частичном доступе китайских компаний к проектам по разведке и разработке небольших месторождений в Восточной Сибири. Российские компании должны иметь приоритетное относительно других иностранных инвесторов право по доступу к любым объектам системы нефтегазообеспечения стран-реципиентов, только в этом случае следует открывать дискуссию о возможности ограниченного участия иностранных компаний в нефтегазовом бизнесе на территории России. Выводы Исходя из устойчивых геополитических и экономических интересов страны, региональных процессов в мировой экономике, тенденций в международной системе энергообеспечения Россия заинтересована в усилении национального суверенитета над ключевыми отраслями экономики, прежде всего нефтегазовым комплексом; в диверсификации экспортных поставок за счет переориентации части потоков нефти и газа с «перегретого» европейского рынка на динамичные рынки АТР (Китай, Японию, Корею и др.) при увеличении транзита через свою территорию на атлантическом направлении (Геную, Марсель, Роттердам и др.) казахстанских и туркменских нефти и газа; в получении долгосрочных гарантий по закупкам нефти и газа по высоким ценам (с учетом последующего направления использования сырья); в получении полного либо частичного контроля над транзитной и транспортной инфраструктурой на территории стран — новых крупных покупателей российских нефти и газа (Китая, Японии, Кореи и др.); в участии в прибыли от реализации нефти и нефтепродуктов, природного газа, продуктов их глубокой переработки, а также гелия на территории стран — непосредственных реципиентов и третьих стран (Китая, Японии, Кореи, Индии, Малайзии, Филиппин и др.). Активное сотрудничество с традиционными и новыми крупными странами — импортерами в нефтегазовой сфере, несомненно, является важнейшим направлением усиления экономических и геополитических позиций России в мире, диверсификации экспорта, повышения структурной и территориальной сбалансированности нефтегазового комплекса, обеспечения экономической безопасности страны. Вместе с тем, конкретные мероприятия и реальные шаги в рамках такого сотрудничества должны быть всесторонне обоснованы, экономически и политически оправданы с учетом интересов государства, нефтегазовых компаний, населения России. Главный принцип взаимодействия — обоснованное усиление российских экономических позиций на территории стран-импортеров (прежде всего КНР, США, ЕС) при сохранении полного национального суверенитета над стратегическими объектами в России, особенно в восточных районах страны. Набор объективных факторов для реализации этого принципа в нефтегазовом комплексе имеется. Источник: Креативное обозрение на idea.ru