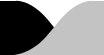- 1024px
- 1280px
Финансовая культура — это высший пилотаж
Одним из важных критериев стабильного и пропорционального развития бизнеса являются понимание и принятие владельцами и топ-менеджерами такого понятия, как финансовая культура. О проблемах, связанных с формированием финансовой культуры, о том, насколько она характерна для региональных предприятий, корреспондент «КС» ЮЛИЯ ДАНИЛОВА побеседовала с президентом НПФ «САМПО», доктором экономических наук, профессором и заведующим кафедрой «Управление финансовым рынком и оценочная деятельность» Новосибирского государственного университета экономики и управления (НГУЭУ) АЛЕКСАНДРОМ НОВИКОВЫМ в чайном клубе «Баолинь». Фото Михаила ПЕРИКОВА — Александр Владимирович, почему сегодня столь актуальна проблема формирования финансовой культуры? — Главная проблема в том, что большинство менеджеров не учатся думать. Причем эта проблема актуальна для представителей всех поколений. Когда я учился в НГУ, главной задачей преподавателей было не просто дать конкретные знания, а научить студентов мыслить системно. Сейчас ситуация прямо противоположная. Сегодня в образовательную систему пытаются ввести западную модель, которая предусматривает конвейерный принцип отношений. Мы учим студентов принципам и подходам решения задачи, но не тому, как самостоятельно ставить проблему и ее решать. Уже в течение шести лет я веду для студентов семинар, посвященный развитию финансового рынка. Мы обсуждаем различные экономические события, и я предлагаю студентам представить себя на месте лиц, облеченных властью: например, на месте министра финансов или финансового директора. К сожалению, только треть слушателей начинают рассуждать. Еще треть в конце курса понимают, чего я от них хочу. До остальных вообще не доходит смысл происходящего. И это притом, что я работаю с лучшими студентами. — И все-таки определенные изменения в понимании значимости финансовой культуры мы наблюдаем. — Сегодня в бизнес приходят менеджеры, не связанные старым социальным подходом: «Всем по справедливости». Сегодня только от тебя зависит, как далеко ты продвинешься. Как правило, везет тому, кому достался самостоятельный участок. Я всегда говорю своим студентам: надо идти туда, где вам могут поручить самостоятельное дело. Если вы попадете в конвейер, вас затянет, через некоторое время вы потеряете навыки и начнете деградировать. Есть и еще одна крайность. Некоторые сразу пытаются открыть свое дело, но чаще всего прогорают, так как, кроме знаний для ведения собственного бизнеса, нужны еще и организационные способности. — Как же абстрагироваться от «конвейера» и найти свой путь роста? — Позиционировать себя очень сложно, этому почти нигде не учат. Таких людей немного, но именно из них получаются самые сильные финансовые менеджеры и бизнесмены. Думаю, что их нужно формировать, и инструментом может стать дополнительное образование, Практически все московские работодатели требуют, чтобы у соискателя было не просто высшее образование, но и более серьезное отличие: степень кандидата наук или диплом МВА. В общем, чтобы выдвинуться, нужно сломать стереотип всеобщего высшего образования. — Что же, на ваш взгляд, сейчас позволяет назвать человека финансово грамотным? — Человек, подкованный с точки зрения финансовой культуры, прежде всего представляет, как устроены финансы. В начале октября я участвовал в комиссии по приему кандидатов, которые хотят стать аспирантами в сфере финансов. Как выяснилось, даже среди них, тщательно готовившихся к поступлению, 40% не понимают разницы между собственным, заемным или привлеченным капиталом. Так что первое условие — элементарно разбираться в теме. Условие второе: для современного менеджмента нужно быть хоть и в узкой области, но специалистом. Третье условие: человек не должен бояться самостоятельно планировать задачу и пытаться ее решить. С этим, как я уже говорил, у нас пока очень плохо. Понимание технологии решения проблемы, постановка задачи, формирование сценария ее решения с учетом условий и ресурсов — это высший пилотаж. — В каких отраслях наибольшая концентрация специалистов с высоким уровнем осознания финансовой культуры? — Безусловно, это собственно сама финансовая сфера. России в этом смысле очень сильно повезло. Она никогда не обладала финансовой организацией в западном понимании этого термина. У нас вначале была плановая экономика, все делалось по инструкциям. Потом возник рынок, началось формирование рыночных отношений, появились люди, которые могли работать, приняв на вооружение опыт иностранных организаций. Когда стали изучать ситуацию, поняли, что Россия не настолько уж отстала от Запада в развитии, например, фондового рынка. Мы смогли сразу внедрить многие современные технологии. Например, наши люди спокойно и быстро приняли принцип «поставка против платежа», который годами внедрялся в США и европейских странах. Очень быстро прижились и другие понятия. Так что в финансовой сфере сегодня сконцентрированы наиболее продвинутые менеджеры и технологии. Другой пример. В развитых зарубежных странах большое значение имеют коллективные инвесторы: паевые и акционерные инвестиционные фонды, негосударственные пенсионные фонды. У нас значение коллективных инвесторов пока невелико, хоть мы и наблюдаем их бурное развитие в последние два-три года. Так, например, только отдельные предприятия имеют корпоративные пенсионные программы как для проведения социальной политики, так и для привлечения дополнительного капитала, многие хозяйствующие субъекты, кроме обычных кредитов, не используют внешние механизмы привлечения инвестиций. Можно привести много подобных примеров. Финансовая культура неплохо реализована и в тех отраслях, которые являются монополистами. По вполне банальной причине: эти компании располагают достаточными ресурсами, чтобы привлечь высококвалифицированных специалистов. — Сейчас многие компании заявляют о своем намерении выйти на IPO. Насколько они соответствуют требованиям, которые предъявляются к этой категории эмитентов? — Для первичного размещения самая главная проблема — перераспределение собственности. Сейчас в России завершается третий этап этого глобального процесса. Однако он идет, что называется, с перекосами. Нарастает количество инвестиционных псевдопубличных займов. По-прежнему широко используются закрытые подписки, позволяющие собственнику не отдавать контроль. Что касается «чистых» публичных размещений, то их количество растет очень медленно. Однако это связано не с дефицитом специалистов, которые могут подготовить компанию к выходу на фондовый рынок. Дело в том, что у нас практически нет публичных компаний, и далеко не каждый собственник может себе позволить финансовую открытость и прозрачность бизнеса. Собственник понимает, что привлечение средств через фондовый рынок является одним из лучших механизмов. Но ему невыгодно принимать решение о выходе на фондовый рынок. Он рассуждает так: «Сегодня я владел крупным пакетом компании, а завтра кто-то придет и снимет меня с поста председателя совета директоров». Из-за специфики российского рынка нам больше подходит германский путь развития, когда приоритет отдается инструментам, более защищенным от поглощения, — облигациям. Американский путь развития фондового рынка — через появление массовых держателей акций — у нас маловероятен. — Несмотря на названные вами сложности, довольно много региональных компаний рассматривают возможность выхода на фондовый рынок. Можно ли такие проекты считать повышением финансовой культуры или это дань моде? — На мой взгляд, активизация региональных эмитентов говорит о том, что в компаниях появились менеджеры, способные реализовать подобные проекты, а руководства компаний достаточно прогрессивны и готовы выделить деньги на эксперимент. Вообще, выход на фондовый рынок — очень эффективное решение с точки зрения развития компании, повышения опыта менеджеров. Интерес компаний вызывает и наличие больших денег на рынке. Например, у банков сформировались значительные активы и они могут стать серьезными инвесторами. Сейчас свободные средства есть и у населения — идет рост вкладов, зарплат. Формируется прослойка частных инвесторов, которые способны проводить эксперименты со своими вложениями. В том числе покупать акции, облигации, паи. Если руководитель уловил эти тенденции, то может попытаться получить максимум от тех возможностей, которые предоставляет рынок. — И все-таки могут ли эти проекты из единичных превратиться в устойчивую тенденцию? — Сегодня 95% инвестиций осуществляется за счет собственных средств хозяйствующих субъектов. Около 70–80% время от времени используют самый простой способ привлечения средств на внешнем рынке: кредитование в банках. И только единицы решаются на заимствования с помощью фондового рынка. Впрочем, ситуация постепенно меняется. Если правительство разрешит выпускать краткосрочные облигации на девять месяцев без регистрации проспекта эмиссии, то выйти на фондовый рынок решатся многие. — Некоторые крупные предприятия испытывают особую любовь к ADR… — С одной стороны, это похвальное решение, так как у предприятия появляется возможность выйти на международные рынки. Это стремление объяснимо, ведь сегодня нарастающими темпами идет процесс глобализации, формируются единые транснациональные компании. Но, с другой стороны, подобные решения могут оказаться и следствием недостаточной финансовой культуры эмитента. Существует опасность, что Россия повторит опыт Венгрии и Чехии, которые привлекали иностранных инвесторов и вывели свой фондовый рынок на Лондонскую и Франкфуртскую фондовые биржи. В результате внутри страны ничего не осталось. Именно поэтому органы регулирования рынка ценных бумаг не очень благосклонно относятся к заявлениям о размещении ADR, защищая национальные интересы. Для регионов эта проблема не менее актуальна. — Насколько возможно говорить о существовании регионального фондового рынка? — Есть мировое хозяйство и мировой финансовый рынок, на который выходят крупнейшие предприятия. Их список ограничен, и ценные бумаги должны обращаться на международной фондовой бирже. Есть национальные компании, которые находятся на втором уровне, и их бумаги работают на ММВБ и РТС. Есть региональные предприятия, и, на мой взгляд, их бумаги должны обращаться на региональных площадках. Их здесь знают, у них есть связи, заинтересованные инвесторы: банки и управляющие компании, которым важен портфельный доход и которые сознательно делают покупки в регионах. Они могут разместиться здесь более удачно. СМВБ уже не один год пытается сформировать этот рынок, но сделать это сложно. Не сработал даже тот факт, что стоимость размещения на Сибирской бирже в три раза меньше, чем на ММВБ, а инвесторам, собственно, без разницы, где покупать ценные бумаги. Я не пропагандирую местечковый патриотизм, но считаю, что каждому эмитенту нужно предоставить возможность получить доступ на свой уровень. Если локальные клиенты смогут размещаться с малыми займами на СМВБ, то количество эмитентов в регионе резко увеличится. Даже если руководство и хотело бы выставить облигации, оно не рискнет пойти с сорока и более миллионами в Москву. На месте у него появится больше возможностей. Правда, эта ситуация будет реальна только в том случае, если удастся сохранить СМВБ — единственную фондовую площадку в округе. — Значит ли это, что цельного понятия финансовой культуры в Сибирском регионе сегодня не существует? — Это действительно так. Проведу параллель с живым организмом. Например, человек не думает, культурный он или нет, и при этом спокойно живет. Так и большинство предприятий. Они привыкли, что ни на кого нельзя надеяться. Только на себя и свои деньги, которые они сами заработали. Это своего рода финансовый дальтонизм, но со временем он должен пройти. — Как решать проблему повышения уровня финансовой культуры? — Нужно учить молодых специалистов, которые через несколько лет займут ключевые посты в региональных предприятиях и, возможно, смогут по-другому воспринимать ситуацию. Я надеюсь, что наступит момент, когда все финансовые менеджеры, независимо от того, кто в какой отрасли работает, будут говорить на одном языке. Сейчас этого нет, так как все работают по-своему, в рамках внутренней схемы, и порой не понимают друг друга. Источник: Креативное обозрение на idea.ru