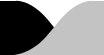- 1024px
- 1280px
Ломать - не строить, или Какой запас карман не тянет?
В рассказе о сегодняшнем дне своего колхоза Рихард Христианович все сделанное и делающееся представлял в сравнении с прошлыми достижениями. И даже больше того, после каждого названного им факта он оставлял для нас, выездной бригады «Честного слова», поле для размышлений: а что было бы, сложись ситуация иначе?.. При этом явно чувствовалась некая «политическая окраска» этих фактов. Но тут ничего удивительного нет: долгие годы Горста избирали в состав районного и областного Советов депутатов. Был он и депутатом «мятежного» Верховного Совета в 1993 году...
Но сейчас речь не о политике. Поразмышляв, мы решили рассказ о колхозе «Барабинском» построить точно так же, как представлял свое хозяйство его директор, - оставляя читателям «поле для размышлений»...
О «вывесках»
В конце концов Рихард Христианович привел контраргумент, устроивший «верха». У нас, заявил он, уже есть своя форма собственности - коллективная. Не нравится слово «совхоз»? Хорошо, будем зваться «колхозом». Но прежнюю «совхозную» вывеску над входом в здание правления Горст менять не стал. «А зачем?» - ответил он на наш вопрос. - Скажут - сменю. Но не в вывеске же дело...»
Дело, наверное, в том, что к настоящему моменту все бывшие АО Барабинского района стали коллективными хозяйствами...
О «перепроизводстве»
Под словами «пошло-поехало», как выяснилось, у Горста выстроена целая система взглядов на сегодняшние проблемы в аграрном секторе. И не только своего района. Скажем, Рихард Христианович в своем мнении по поводу перепроизводства зерна в Новосибирской области весьма категоричен: сами виноваты. То есть эта проблема возникла только там, где руководители хозяйств бездарно и недальновидно использовали имеющиеся в их распоряжении ресурсы - скот и пахотные земли.
В качестве примера Горст назвал несколько сельхозпредприятий соседних с Барабинским районов. (Не станем в этой статье называть фамилии директоров, - думаем, они должны узнать себя сами). В одном из таких хозяйств в достатке и скота, и пашни. К тому же хорошо налажена переработка молока и выпуск молочной продукции практически всех наименований, пользующейся устойчивым спросом. Так вот, здесь постоянно собирают высокий урожай - больше, чем требуется для корма скоту. Однако в хозяйстве никогда не торопятся побыстрее продать излишки зерна, хранят на элеваторах и складах до тех пор, когда закупочная цена даже на четвертый класс поднимется до устраивающей их планки. Позволяет здесь делать это как раз строгое соблюдение пропорции в количестве скота и количестве собираемого урожая.
В соседнем же хозяйстве совсем иное положение. Там большие пахотные земли, около полутысячи дойных коров, семь тысяч овец и в свое время было много другого скота. Теперь этого скота нет. Земли отведены под зерновые, но весь собранный урожай выгодно для себя хозяйство реализовать не может. Потому как растениеводство никогда раньше не было для него основным видом производственной деятельности. Вот и вынуждены здесь сейчас продавать пшеницу четвертого класса (почти продовольственную) в общем-то за бесценок.
Когда Горсту в этом году также предложили скупить зерно четвертого класса по 900 рублей за тонну, он даже не стал разговаривать на эту тему.
- Потому что я тут же произвел нехитрые расчеты, - пояснил Рихард Христианович. - А именно: сколько я получу прибыли, если продам зерно за эту цену, и сколько я получу молока, если пущу это зерно на корм своему скоту? В пересчете на молоко выгода оказалась куда больше.
Как видим, о каком-то перепроизводстве зерна даже не идет речи в тех хозяйствах, где в свое время удержались от соблазна пустить коров под нож и получить сиюминутную прибыль. Но это один момент. Другой, по Горсту, в том, что в хозяйствах, где растениеводство все-таки является основным видом деятельности, почему-то все силы и средства бросили на выращивание зерновых культур, совсем забыв о силосных, в частности о кукурузе. Это не по-хозяйски. Если вам даже не требуются большие запасы кормов, они всегда востребованы в других, животноводческих, хозяйствах. Так что, имея излишки силоса, без «твердой» копейки в доходной части вы не останетесь.
Но все же, по мнению директора «Барабинского», было бы гораздо лучше, если бы государство предоставляло аграриям гарантии. Горст здесь даже предлагает что-то вроде планирования. Предположим, звонят из «центра» накануне уборки директору какого-нибудь хозяйства: сколько вы намерены собрать зерна и сколько из этого количества хотите продать? Директор отвечает: соберу 10 тысяч тонн пшеницы и половину продам. Тут же заключается договор на закупку этих пяти тысяч тонн по твердой цене. Теперь руководитель хозяйства, зная, сколько он получит прибыли от реализации урожая, может безбоязненно распоряжаться этой суммой при подготовке к уборочной.
- Пока же, - завершает свою мысль Горст, - такие гарантии отсутствуют, и часто самый крепкий хозяин за один год становится банкротом. А все потому, что не может рассчитаться за те средства, что вложил в производство своей продукции. Имею в виду не только зерно. Сейчас с нас спрашивают за выполнение нормы по суточному привесу скота, по суточному удою на одну корову. А куда пойдет дальше мясо и молочная продукция, никого не волнует! Мы вот в колхозе реализуем четыре тонны молока в сутки, остальное сдаем в «Сибирское молоко» и на Куйбышевский молокозавод. То есть молочная продукция остается в Новосибирской области. А вот с мясом иначе. Приезжают вроде бы новосибирские покупатели, берут скот живым весом, а увозят... Догадываюсь, что в Омск. Вроде бы нашему колхозу все равно - деньги получены, зарплата выплачена, что еще? А просто обидно. Ведь экономически выгоднее, если мясо останется в области, поступит на комбинат, где его переработают; отсюда - налоги в бюджет и прочее, прочее... А так ничего области, по сути, не остается. Жалко труда многих людей...
Отдельно высказался Рихард Христианович о тех, кто покупает у них мясо... Впрочем, не столько именно о них, а о посредниках вообще. Он дал им по-крестьянски короткое определение: повилика. Есть такая сорная трава, существующая за счет жизненных соков живого ствола или стебля.
Но это отдельная тема.
О «запасе»
С большой гордостью директор «Барабинского» заявил, что благодаря большому поголовью скота у них в колхозе нет проблем с занятостью населения. Работа имеется и для доярок, и для механизаторов, и для управленцев, и для людей без специальности. Любому прибывшему в колхоз найдется занятие. Потому что есть «кадровый запас». Он, по убеждению Рихарда Христиановича, никогда лишним не бывает. Вот, скажем, возникла у Горста идея производить у себя в колхозе мед. А что? Для скота здесь ежегодно сеется много донника, а медоноснее этого растения в округе ничего нет. Да и место под пасеку вскоре нашлось: кругом лес, а на огромной поляне - донник и другие цветы. Так что закупили улья, установили на поляне, а тут и специалист из Куйбышева приехал.
- Приехать-то пчеловод приехал, - вспоминает Рихард Христианович, - но пчел у нас тогда еще не было... Начали искать. И нашли в Новосибирске: со «чкаловского» завода самолетом доставили в пакетах 150 семей. Ну а поскольку у нас в кадровых списках пчеловод тогда не значился, куйбышевского специалиста я временно оформил учетчиком полеводства... Вот так мы оказались с медом. Правда, хлопотное это дело. В пчеловодстве год на год не приходится. Скажем, в этом году из-за плохой погоды пчелы практически из ульев не вылазили. Подойдешь - гудят там, внутри. А цветы неопыленные, меда нет. Но что поделаешь, будем кормить эту зиму пчел сахаром - не пропадать же добру, и так их в этот дождливый август погибло немало. Разрешили мы даже частникам своих пчел у нас на пасеке держать. Строим сотохранилище. Надеемся, что все наладится...
По этой же причине - в надежде на лучшие времена - держат в «Барабинском» 300 лошадей. «Иждивенцы», - назвал их Горст, но почему-то - с доброй улыбкой. Оказывается, он не расстается с мечтой организовать в селе конноспортивную школу. Задумка давняя. В свое время даже собиралась необходимая в таких случаях документация и разрешения соответствующих служб, была достигнута договоренность с московским заводом о поставках шорных изделий, начато строительство спорткомплекса. В этом комплексе предполагалось также устроить нечто вроде оздоровительного центра для селян, с обязательным грязелечением (благо, такая лечебная грязь была рядом, на Чановских озерах)... Но грянули «новые времена».
- Мы сократили табун на 100 голов, - рассказывает Горст. - Оставили племенных жеребчиков и кобылиц. Ломать - не строить: запросто можно пустить табун на мясо. Но, уверен, кони еще будут нам нужны живыми. И когда на них появится спрос, мы за один год сможем довести табун до требуемого количества. Пока же держим столько, сколько нам по силам.
«Про запас» остается на полставки при правлении и профорг. Опять-таки не исключено, что временно пустующая комната, где раньше хранился спортивный инвентарь, будет востребована. Ведь не забыты времена, когда профсоюзная организация вместе с комсомольской выступали зачинщиками разных спортивных состязаний. Вон сколько грамот и кубков мы видели в кабинете директора колхоза!
Горст действительно не спешит «ломать» то, что создавалось годами. Так, потихоньку обновляется здешний кирпичный завод. Единственный оставшийся в рабочем состоянии из некогда двенадцати в районе... Не закрыт и асфальтный завод. А уж на молокозавод «Барабинский» в колхозе особые надежды. В этом году здесь работали две строительные бригады: капитально ремонтировали помещения, строили котельную. И не зря. Сейчас завод производит несколько наименований молочной продукции, в том числе и в «тетрапаковских» упаковках. «Но вот когда начнем производить сыр, - говорит Рихард Христианович, - это будет победой: никто не сможет мной командовать...»
Впрочем, нам думается, и сейчас вряд ли кто безраздельно «командует» директором «Барабинского». Да, проблем правлению колхоза хватает. Тяжело с подготовкой кадров и специалистов. Совсем тяжко со строительством жилья. Невысока и заработная плата... Обо всем этом и о многом другом мы долго и обстоятельно говорили с Горстом.
И вот к какому выводу пришли. Нет, Рихард Христианович, конечно, не из тех, кто нарочно сгущает краски, чтобы добиться каких-то привилегий для себя. Он просто видит все таким, как есть. Ну добилось его хозяйство хороших трудовых показателей. Зачем же трубить об этом, если впереди столько нерешенных задач?
Заслуги - они уже стали «запасом». Тем запасом, который уже никому не «сломать», но на основе которого предстоит строить будущее.
Виктор БОЯРИНЦЕВ, »
Партнёр материала: greenway
Источник: Креативное обозрение на idea.ru